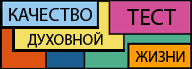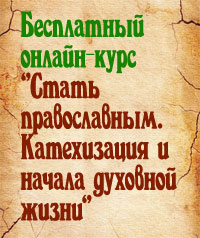Макарий Оптинский, преподобный
1. Арх. Агапит. "Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария". М., 1997. 2. "Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления". Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001. 3. "Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев". Свято-Введенская Оптина Пустынь, 2001.

Родители старца Макария, Николай Михайлович Иванов, в чине коллежского асессора, и Елизавета Алексеевна, урожденная Емельянова, сверх родового поместья гг. Ивановых, сельца Щепятина Орловской губернии Дмитровского уезда, владели населенными имениями и в других губерниях, в том числе и в Калужской. В окрестностях города Калуги, вблизи Лаврентьева монастыря, принадлежало им небольшое сельцо Железники, где они и проживали. В этом сельце в 1788 году 20 ноября родился у них сын первенец и был наречен во св. крещении Михаилом, в честь св. Михаила, князя Тверского, коего память 22 ноября. Это и был будущий старец Макарий…
Наружный вид старца Макария был чрезвычайно привлекательный. Волосы на голове и бороде имел он недлинные и седые, бороду окладистую. Руки его отличались мягкостию и гибкостию, как и весь его стан — стройности". Лицо белое и чистое, ничем, впрочем, с первого взгляда не поражающее и по недостатку в глазах несколько неправильное, даже, по обыкновенным понятиям о красоте физической, вовсе некрасивое, притом с печатью постоянного самоуглубления, следовательно, на вид более строгое, чем ласковое. Но такова сила благодати Божией, что лицо это, служа зеркалом чистой, смиренной и любвеобильной души старца, сияло какою-то неземною красотою, отражая в себе то или другое из свойств внутреннего человека — плодов Духа, исчисленных апостолом (Гал. 5, 22, 23). Взор тих, слово смиренно и чуждо дерзновения. Вообще в нем было редкое соединение ума и детской простоты, величия и вместе тихости и смирения, делавших его доступным для всех и каждого…
Проживший 20 лет при старце Макарии келейник его в свое время говорил, что ни разу он не видел, чтобы старец выразил на кого-нибудь из братии неудовольствие за несвоевременный приход, не исключая даже и того часа, который он, утомленный трудами, употреблял на краткий послеобеденный отдых. Как чадолюбивый отец, он одним лишь обеспокоивался — если долго не видел у себя кого-либо из постоянно относившихся к нему. Отворяя дверь, каждый пришедший, по общепринятому в обителях обычаю, обязательно должен был произнести молитву Иисусову. Ведущая из коридора в переднюю старца дверь, когда отворялась, скрипела на своих ржавых петлях. По этому только скрипу старец узнавал о приходе посетителя и немедленно выходил к нему, оставляя свои келейные занятия. Но вот однажды келейники, наскучив скрипом двери, вздумали в отсутствие старца подмазать скрипевшую дверь маслом. На другой день старец, не слыша обычного скрипа, встревожился: "Кто испортил мою дверь?" — спросил он келейников. Те сознались, что сделали это умышленно. "Исправьте! Сейчас исправьте! Пусть будет по-прежнему". Нечего делать, пришлось снять дверь с петель. Тщательно обтерли масло, и дверь опять стала скрипеть по-прежнему, возвещая старцу о приходивших и через то заменяя докладчиков…
Чтобы ни в чем не отделяться от прочих братии и не выказывать особенных подвигов и своего пред ними превосходства, старец Макарий вместе с братиями ходил и в баню мыться. Но как он мылся? Лишь только войдет, ополоснется водой и уже идет вон. Ему скажут: "Батюшка, батюшка! Что же вы так скоро-то?" "Довольно, довольно" — ответит. Затем поплюет на свое тело, например на руку, а другою разотрет. "Ничего, ничего,— скажет,— хорошо, довольно". Тем и кончалось его омовение. Так самым делом наставлял старец учеников своих презирать плоть свою, преходит бо…
Не стыдился старец Макарий, по смирению своему, высказывать пред людьми свое как будто малодушие и боязнь силы бесовской. Находился он однажды, как это и часто бывало, при старце о. Леониде, когда сей последний еще был жив. Вот привели к ним обоим некую бесноватую женщину. Смело и со строгостью подошел к ней о. Леонид. Бесноватая тотчас стала неистово кричать. А старец о. Макарий, как бы из боязни, показывая вид робости и прячась за о. Леонида, говорил: "Боюсь, боюсь!.." Бесноватая же, или, вернее сказать, бес в женщине, услышав это, кричит: "Врешь, врешь! Не боишься! Уж меня-то ты не обманешь!"…
Исполненный такой любви, старец проливал обильно милость свою прежде всего на всех духовных чад своих, объемля их душою своею и нетесно вмещая в сердце своем. По примеру премилосердого нашего Спасителя и Искупителя, он не отвращался ни от кого, приходившего к нему и просившего милостыни духовной или телесной, и никого не отпускал от себя, не оказав по возможности внимания к его нужде. С какою, например, отеческою любовию в свое время он принял в скит и успокаивал до самой кончины одного брата, который некоторое время, по наущению вражию, злословил его и досаждал ему! Случалось еще, что иной брат в обители чем-либо немоществовал, но по его виду нельзя было считать его больным. Прочие братия обыкновенно говорили старцу: "Какой он больной? Притворяется, не хочет работать, и больше ничего". Но любвеобильный старец в таких случаях отвечал: "Ну, а я не могу не верить". Так, любовь всему веру емлет.( Кор. 13,7)…
Не любил старец похвал, в особенности если слышал, что его считают святым. С такими людьми он строго обращался, показывая даже вид гнева. Так, шел однажды по монастырю монах Серапион. Но вот останавливает его какой-то странник и начал рассказывать, что он был крепко нездоров; но явившийся ему во сне какой-то старец исцелил его и велел сходить в Оптину Пустынь помолиться. На вопрос, какой он видом, странник стал объяснять. В это самое время из-за Владимирской церкви показался старец Макарий, который направлялся из скита к настоятельскому корпусу. Увидев его, странник с радостию воскликнул: "Вот он! Вот этот самый!" И с этими словами хотел было подойти к нему. Но о. Серапион, остановив странника, сам захотел передать старцу рассказ его, желая тем, со своей стороны, оказать ему честь. Пока речь шла о сильной болезни странника, старец слушал со вниманием. Но лишь дошло дело до чудесного им исцеления, старец переменил свой взор и, не дав рассказчику докончить историю, разразился над ним палочным ударом, не стал более слушать, отвернулся и ушел…
Похвалу для себя старец даже называл клеветою. Так, писал он в Севск к своим племянницам: "Я не ожидал от тебя, м. Мелания, такой клеветы, какою ты меня клевещешь. Откуда ты взяла такие оскорбительные и ложные взносить на меня клеветы? Считать меня живоносным источником, точащим не знаю что такое, и последним столпом монашества оставшимся? О горе мне, грешному! Напротив, не только не столп, но самая немощная, иссохшая от греховного зноя, былинка; и не живоносный источник, а греховное болото, источающее смердячую воду. Это я вижу в себе истинно так; и неложно должно бы говорить и мыслить: Беззакония моя аз знаю, и грех мой предо мною есть выну (Пс. 50,5). Как погляжу на прошедшее и на настоящее, только и есть греховное усыпление и нерадение. Нет, суд человеческий несправедлив…"...
…Монах (впоследствии — иеросхимонах) Савватий передавал следующее. "Занят я был,— говорил он,— одним делом за скитскими воротами. Около скита в это время стояла какая-то бедная девочка с набранной ею для продажи земляникой. Вдруг выходит из скита батюшка о. Макарий. Завидев у бедной ягоды, он начинает с нею торговаться: "Что просишь? Что просишь?" Та говорит: "Гривеньчик пожалуйте, батюшка". Но батюшка, заметив, что неподалеку от него я тут нахожусь, чтобы скрыть свое добродеяние от меня, отвечает: "Дорого, дорого! Пятак, бери пятак! Больше не дам, больше не дам!" А сам сует ей в руку рубль серебряный"…
С переходом в Оптинский скит старец Макарий отказался от священнослужения, ибо, по косноязычию и страдая в то же время занятием духа, не мог ясно выговаривать возгласы, тем менее произнести целую ектению или должное поминовение на великом входе Св. Литургии всех членов Императорской фамилии". Вместо сего он всегда однажды в месяц причащался в алтаре Св. Христовых Тайн с глубоким и трогательным умилением. По принятии же Святейших Тела и Крови Господних он, как передавали современные ему монахи, буквально обливался слезами…
Память у старца Макария была изумительная и, очевидно, промыслительно дарованная ему для вспоможения в деле служения ближним. Сказывали его современники монахи, что когда он предлагал какому-либо брату для пользы его душевной прочитать какое-либо место из творений св. отцов, то указывал по памяти даже страницу книги, где можно было отыскать то место. Еще: если кто раз был у него на исповеди или откровении, то он долго помнил все главные касавшиеся его обстоятельства. Можно себе представить радость какой-либо бедной старушки, которая после многих лет первого личного свидания со старцем, придя к нему в другой только раз в своей жизни, бывала встречаема от него приветствием вроде следующего: "А, здравствуй, Дарья! Что детки? Здоровы ли? Как Иринушка твоя поживает? Ведь она, кажется, у тебя уж года три будет как отдана замуж?.." И вот, изумленная таким неожиданным вниманием и памятованием о ней святого отца, старушка уже и забыла вполовину то горе, которое привело ее в обитель, а вместе исчезла и робость, с которой она шла к старцу, раздумывая: "Как-то я, грешница, покажусь ему, как расскажу ему — что есть на душе?" И легко и свободно изливает она пред ним свою душу, черпая в то же время утешение в словах благоглаголивых его уст…
Небрежности же не мог терпеть даже в маловажных делах. Например, если кто, взяв в руки книгу, вследствие торопливости или просто без внимания положит ее нижней стороной вверх, увидев это, старец не преминет заметить: "Ты положил книгу небрежно — это нехорошо", — и сам поправит ее…
Во всех телесных деланиях держался среднего, непадательного, так называемого св. отцами царского, пути, удаляясь всемерно крайностей, которые они же называют бесовскими. Так, относительно употребления пищи, следуя совету св. Иоанна Лествичника, а вместе и прикрывая воздержание свое смирением, он вкушал в определенное время понемногу от всего предлагавшегося, не запрещенного монахам; в мере же, как можно было заметить, держался правила св. отцов — вставать из-за стола с чувством неполного удовлетворения голода. Но кто пожелал бы узнать, сколько старец скушал пищи за один раз, тот, взглянув, например, на оставшийся после обеда на его приборе хлеб, мог бы удостовериться, что он не съел и одной трети обыкновенной порции оного, полагаемой к трапезе каждому брату, состоящей из ломтя хлеба средней величины…
…Долго беспокоило Павла Степановича воспоминание о прежней жизни. И в особенности одно время долго смущала его скрипка. Шел ли он куда, стоял ли в храме Божием, исполнял ли порученное ему послушание, звучит, бывало, над его ухом эта невыносимая скрипка своими бесконечными магическими переливами. Моцартовские, бетховенские фантазии, польки, мазурки не давали ему покоя. Даже и во сне нередко он отхватывал такие отчаянные пьесы, что, проснувшись, сам удивлялся своему искусству; так как и наяву никогда так мастерски не играл. Между прочим, по неопытности своей, считал он все это делом естественным и не слишком беспокоился этими помыслами и представлениями, не вменяя их даже в грех; а потому и старцу не открывал их. "В одно время,— так рассказывал впоследствии о. Платон (бывший Павел Степанович),— когда я шел к старцу, скрипичная музыка в особенности одолевала меня. Всю дорогу воображением я наигрывал разные увертюры, вариации и т. п. Когда же вошел в келлию к батюшке, он, как старец прозорливый, встретил меня такими словами: "Что ты все играешь? Какие там польки, вальсы, мазурки? А по-нашему вот как..." И так как старец в миру сам был скрипач, то начал тут же руками представлять игру на скрипке, копируя Павла Степановича и вместе с тем приговаривая: "Барыня, барыня..." Старец действовал руками с проворством и искусством артиста и принял такую позу отчаянного скрипичного игрока, что Павел Степанович, удивленный этим явлением, рассмеялся и совершенно растерялся. "Вот как по-нашему! — прибавил батюшка, живо выпрямившись и приняв обычное свое, но веселое положение, — а то что там по-французски... завывает, завывает". — "Рассмешив меня этим до крайности, — говорил о. Платон — и вполне утешив, батюшка меня отпустил. Но в то самое время мне и в ум не пришло, для чего старец это сделал; а после, когда уже я ушел от него, сообразил, что этим батюшка обличил мое внутреннее недугование. А что еще удивительнее для меня было, так это то, что вот уже более десяти лет живу я в скиту, и прежние скрипичные грезы уже не беспокоят меня"...
Был особенно замечательный случай, о котором так передавал о. Платон: "Пришел я однажды к батюшке испросить у него благословение пропеть в церкви вместо причастного стиха вновь расположенный по нотам догматик 6-го гласа: "Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево". Батюшка в это время сидел в своей келлии один за письмами. На мою просьбу он, положив на стол перо, начал рассматривать принесенные мною ноты. Наконец, послушав от меня напев догматика и, без сомнения, желая преподать надлежащее понятие о пении церковном, и притом разумном, он сказал мне: "Ну что ты разучаешь все новое партесное? Ну что в нем особенного? Как его можно сравнить с нашим церковным пением? Мы вот как этот догматик певали". И старец запел его по церковному напеву. Строго церковное его нотное пение проникнуто было самым искренним чувством вполне понимаемого им песнопения. Он воспевал Небесную Царицу Деву, как бы стоя пред Нею и созерцая славу Ее. Я забыл свои ноты и с изумлением глядел на поющего старца и не мог надивиться: как это у такого маститого старца, строгого подвижника, мудрого учителя, такое детски нежное чувство, такая пламенная, младенчески верующая любовь к Божией Матери! Батюшка чем дальше пел, тем глубже проникался чувством песнопения. Голос его уже начал дрожать. И лишь только пропел он: быв человек нас ради, — пение его прервалось. Слезы полились у него ручьем. Склонив голову, он плакал сильнее и сильнее и наконец зарыдал, как дитя, оторванное от любящей его матери — единственного утешения. Долго стоял я, изумленный таким явлением. Прошло с полчаса, а рыдания батюшки не прекращались. Вместе с тем виделось в нем такое глубокое чувство смирения и пламенеющей любви к Господу и Пречистой Богоматери, что мне даже стало стыдно и смотреть на него. Так я и не дождался конца рыдания старца и, глубоко растроганный, пошел со своими нотами к себе в келлию"…
Между прочим, старец Макарий любил держать в своих келлиях кошек как полезных домашних зверьков, способных истреблять известных вредных грызунов; только отнюдь не любил ласкать их. Павел Степанович, как любитель соловьиного пения, возревновал против этих неразборчивых истребителей. В досаде на них и, вероятно, надеясь на обычную снисходительность старца, он пришел к нему и бесцеремонно начал говорить: "Благословите, батюшка, побить кошек". Озадаченный такой неожиданной просьбой и видя в просителе настойчивость и несмиренное расположение духа (что в монашестве считается нетерпимым злом), старец, со своей стороны, спрашивает: "За что же, за что их побить?" "Да как же,— отвечает тот, — они всех соловьев поели". "Ну так что ж? — продолжал старец. — Это их естественное свойство". Да как затопочет ногами, зашумит на Павла Степановича: "Ах ты, сякой-такой! Ишь затеял что!" Павел Степанович повернулся было к двери уходить, как старец начал поддавать ему подзатыльни. И стучит, и шумит, и под затылок поддает. Хотел было Павел Степанович поскорее выбежать вон, но так растерялся, что ощупывает руками дверь и никак не может ее найти; а старец продолжает штурмовать. Наконец он кое-как выбрался на дорожку и от сильного огорчения тут же дал себе слово непременно хоть куда-нибудь уйти из Оптиной Пустыни, говоря, что тут каторжная жизнь. Сложившись с таким помыслом, он уже и от старца отшатнулся: дня два или три ходит мимо старца, не кланяется ему, ни под благословение не подходит и даже не смотрит на него. Видит старец, что Павел огорчился до крайности. Пришел как-то сам к его келлии и сотворил по обычаю монастырскому молитву. Послышался внутри келлии ответный аминь. "Благослови, брате, войти", — сказал старец. Был ответ: "Бог благословит". Вошел старец, помолился на св. иконы и затем с краткою речью обратился к Павлу Степановичу. "Павел, Павел! Ты обиделся на меня? Обиделся? Ну, прости меня". И вдруг кланяется ему в ноги. При воспоминании о сем о. Платон сказывал: "Это глубочайшее смирение великого старца, имя которого в свое время славно было не только по всей России, но и за пределами ее, поразило меня до глубины души. Весь в слезах, мгновенно и сам я бросился к старцу в ноги, прося простить меня, малодушного, неразумного грешника. А любвеобильный старец тихо продолжал свою речь: "Что же ты уж и от меня-то ничего не хочешь понести? И если от меня не терпишь, то от кого же возможешь потерпеть что-либо?" Далее старец говорил о том, что терпеть скорби необходимо, что необходимы нам душевные потрясения для нашего же спасения. Так поучив меня, он удалился из моей келлии. Обуреваемый доселе разными сопротивными помыслами, я почувствовал в душе невозмутимый мир и тишину...
Рассказ монахини Никандры Зайцевой. "Мои родные жили недалеко от Оптиной и имели великую веру к Оптинским старцам. Поэтому я девочкой часто бывала у батюшки о. Макария и лет пятнадцати, по его благословению, поступила в монастырь. При поступлении же моем в обитель была в Оптиной одна севская монахиня, которая очень просила батюшку благословить меня к ней жить. Сначала он как будто соглашался, но вдруг решительно отказал, хотя она очень оскорбилась этим отказом, и благословил мне ехать в Белев. После я узнала, что с помянутою севскою монахинею вскоре что-то неладное случилось. Она как бы в прелесть впала и как-то горестно окончила свою жизнь...
Особенно любил старец между сестрами мир. Помню, раз пришел он к нам — а нас вместе жило много, — остановился на пороге и спрашивает: "Мир у вас? Если мир, то пойду; а если нет, не пойду". И только тогда вошел к нам в келлию, когда мы уверили его, что у нас мирно.
Забыть не могу батюшкину любовь и внимание, с которыми он относился к нам. Это был не отец, а самая нежная мать. Решительно на все он обращал внимание. Случалось мне после посещения родных моих заезжать прежде в Оптину. Так он сам все посмотрит — что дали родные и все ли у меня есть, что нужно. Иногда приедешь к нему — скорбишь и жалуешься, что родные забыли. А он скажет: "Бог любит тебя и потому посылает скорби. Родные тут ни при чем. Все — Бог. Он им не возвещает, вот и не шлют. Тебе нужны деньги? Возьми у меня, сколько надо?" А сам вынет из кармана кошелек и подаст мне. Стану отказываться, а он начнет настаивать: "Бери, бери! Ведь мне дают!" Так батюшка утешал, что, бывало, и подумаешь: "Ну что ж, что скорби есть? Зато благодаря им батюшка так утешает"… Однажды мой брат собрался поехать в Киев и нашел себе товарища странника, но батюшка решительно не благословил с ним ехать. "Боже, избавь! — сказал он. — Откажись и ступай после один". Брат послушался. И когда потом поехал, то в одном месте увидел, что собралась около чего-то толпа народа. Он подошел посмотреть и увидел, что странник, с которым собирался он ехать, лежит мертвый. Убили ли его, или, быть может, он сам умер, неизвестно. Но, во всяком случае, если бы батюшка не удержал брата, то и брат мог бы также пострадать.
Когда батюшка скончался, я думала, что для меня все пропало, и плакала сорок дней, почти не переставая. Наконец увидала я батюшку во сне. Он и говорит мне: "Что ты плачешь? Мне хорошо. На мне одежда, как на св. Иоанне Крестителе". И показал мне ее. На нем надето было что-то волосяное, подобно тому, как изображают св. Иоанна Предтечу Господня. Через год после батюшкиной кончины, вечером под 7-е сентября (день кончины старца Макария), мои родные проезжали мимо Оптиной Пустыни и видели два огненных столба, которые, как им казалось, поднимались — один над монастырем, а другой над скитом. Раз мне пришлось на явившегося во сне беса призвать молитвы батюшки о. Макария. "А! Знает, кого призывать",— сказал он и исчез…"
Рассказ монахини Татьяны Ивановой. "…Однажды бешеный волк в нашей местности искусал несколько человек крестьян, в том числе и двух мужиков моей барыни. Как раз в это время приехал к нам батюшка. Искусанных крестьян отправляли в больницу; а крестьян моей барыни старец не благословил туда отвозить. Их позвали к батюшке. Он их благословил, окропил их раны святою водой и утешил надеждою на милосердие Божие, так как они очень скучали и боялись взбеситься. Затем велел им полагать по три поклона, молиться Царице Небесной и св. Николаю Чудотворцу и пить по утрам богоявленскую воду. Они так делали и остались живы и здоровы; а все прочие, отправленные в больницу, умерли."…
Рассказ монахини Алевтины. "…Моя родная сестра, Мария Павловна Полунина, страдала припадками беснования. Мать наша приехала с ней в монастырь, и мы с матерью повели ее в Оптину Пустынь. Еще перед тем в нашей церкви она сильно беспокоилась, а дорогой все бранила меня, что у меня рука проклятая, на руке же у меня были надеты батюшкины четки. Когда мы пришли в Оптину, то сели дожидаться батюшку на дорожке около скита. Вдруг сестра закричала: "Вон идет седой!" — и забилась. Действительно, из скита вышел батюшка, подошел к нам и каким-то пояском опоясал больную. Она перегнулась назад, как бы переломилась, и как будто оцепенела. Потом, как оправилась, батюшка послал нас на могилку батюшки о. Леонида. Он всегда прикрывал чем-нибудь свои исцеления. Там мы помолились и взяли песочку с его могилки. Сестра успокоилась. На другой день была у обедни. Батюшка давал ей антидор; и она принимала спокойно. После того прежних припадков с нею уже никогда не было"…
Рассказ монахини Флавианы. "…Приехал однажды батюшка к нам в монастырь. В это время две монахини поссорились из-за стройки келлии и просили батюшку прийти рассудить их. Когда же он пришел, они стали вперебивку обвинять одна другую. Долго стоял батюшка между ними молча, опершись на свой костыль. Потом вдруг стал живо повертываться то к той, то к другой и скороговоркой говорить: "Ты какова? А ты какова? А ты какова?" Все присутствовавшие тут рассмеялись; тем суд и окончился. С монашествующими батюшка занимался больше, чем с мирянами; но, по смирению, очень старался скрывать свои духовные дарования. Если, бывало, спросишь его о чем-нибудь очень прямо, скажет: "Не знаю, не знаю". Однажды батюшка, отпуская меня из Оптиной перед вечером, очень усталую, пешком, говорит: "Ступай! Там тебе оказия будет; сегодня дома будешь". И правда. Только немного прошла я дорогой, нагнали меня какие-то добрые люди, посадили и довезли до монастыря. Помню, одна бесноватая ударила батюшку по щеке, а он подставил ей другую. Она так и упала замертво"...
Другая м. Макария, Домогацкая, монахиня Севского монастыря, рассказывала следующее: "Съехалось нас однажды в Оптину на богомолье с разных сторон много. Между нами случилась какая-то странница, которую я несколько раз видала, но все поодаль батюшки. Заметив, что она сторонится старца, я однажды сказала ей: "Что ты вместе с нами не подходишь к батюшке под благословение?" Она созналась, что ее что-то не допускает к старцу, и она страшится его, хотя внутренне и не желала бы этого… На другой день после ранней обедни мы опять пришли к старцу, и странница с нами. Была Пасха. Батюшка повел всех нас в скитскую церковь. Тут было несколько монахинь и светских дам, которых привел иеродиакон Исаия. Старец показывал нам ризницу и некоторые достопримечательности, а странница в это время сидела в Предтеченской церкви на лавочке возле печки, по входе в церковь на левой стороне. После того батюшка повел нас вон из церкви. Но лишь только поровнялся он с сидевшею около печи странницею, она в то же мгновение ударилась об пол и начала самым ужасным образом метаться и кричать: "Вот тебе напал на своего! Вот тебе напал-то! Осьмнадцать лет меня никто не видал. Осьмнадцать лет я жил спокойно — никто не знал меня. А теперь напал на своего! Напал!.. Беда нам от тебя, Макарий! Гонишь ты нас, Макарий!" Уклоняясь от беснующейся, батюшка с поспешностию обращается к нам: "Теперь в трапезу! В трапезу! Тут все осмотрели". И с этими словами он вышел из церкви. Мы все пошли за ним в трапезу. Потянулась за нами и странница. Когда же при осмотре трапезы случилось батюшке опять проходить мимо бесноватой, она опять ударилась об пол с прежними странными припадками, говоря: "Горе нам от тебя, Макарий! Гонишь ты нас, Макарий! Нет нам места от тебя, Макарий!" Старец, опять повернувшись, предлагает нам: "Не угодно ли теперь посмотреть и подвал под трапезой?" И тотчас спустился с нами вниз, оставив странницу в жестоком припадке. Когда же при осмотре запасов подошли мы к квасным бочкам, батюшка предложил желающим откушать скитского квасу. Тут пришла некоторым из нас мысль попросить старца, чтобы он благословил стакан квасу, дабы им напоить бесноватую. Мы твердо были уверены, что старец может исцелить ее, но уклоняется от сего единственно по смирению… Уразумев, для чего о. Исаия просил благословить квас, старец просто сказал: "Хорошо; напойте ее". Но о. Исаия опять попросил: "Нет, батюшка, вы благословите квас". Старец ответил: "Все равно; ведь я благословил; отнесите ей". О. Исаия продолжал настаивать на своем. Тут и мы приложили общую просьбу. Тогда батюшка, как бы против воли, перекрестил квас, и его тотчас понесли к страдалице. Увидев это, она еще с большим беспокойством и ожесточением начала метаться и стиснула зубы. С трудом разняли их и насильно влили ей в рот квасу. Страдалица тут же опомнилась, успокоилась и, оправившись, стала совершенно здоровою. Дня три после того видала я ее. Она уже не боялась старца, а, напротив, изыскивала случая видеть его и получить от него благословение и наставление…
Некоторые же из братии обратили внимание на следующее неожиданное обстоятельство: внутри скита на юго-восточной стороне росли три вековые сосны — две от одного корня, а третья немного поодаль; старец настоятельно сберег их от посечения, которому при разведении на этом месте сада подверглись другие росшие с ними деревья. Скитяне всегда между собою переговаривали так: "Эти три сосны — символ союза наших старцев; две от одного корня — напоминают родных братьев: о. архимандрита Моисея и о. игумена Антония, а стоящая поодаль — нашего батюшку о. Макария". Когда же летом, без всякой видимой причины, эта последняя сосна внезапно засохла, вид ее наводил на скитян невольную грусть, причину которой каждый угадывал, но не хотел высказать, боясь быть предвестником общей скорби…
В шесть часов утра в последний раз старец удостоился приобщиться Св. Тайн — Тела и Крови Христовых, которые в этот раз принял уже от телесного изнеможения лежа, но в полной памяти и с глубоким чувством умиления. После причащения произнес он троекратно с воздением рук горе: "Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Боже наш!" И это были последние его слова. Почти через час после сего, при окончании чтения канона на разлучение души от тела, на 9-ой песни оного, старец предал свою праведную душу в руце Божии, окруженный сонмом своих близких учеников и других преданных ему особ, проводивших при нем бессонные ночи при неиссякаемых источниках слез. Кончина старца была мирна и тиха, проста и вместе величественна, как и вся жизнь его, угасшая словно вечерняя заря светлого дня, оставив в сердцах преданных ему глубокую ночь печали…
…Бывший управляющий канцеляриею Св. Синода, Петр Иванович Соломон (впоследствии член Государственного совета, действительный тайный советник), поступил под духовное руководство старца иеросхимонаха Макария года за два до его смерти. Весною I860 года Петр Иванович, по особому поручению правительства, командирован был за границу, в Палестину, где и пробыл все лето. Возвращаясь в начале сентября в Россию, он не мог знать о болезни старца, так как болезнь эта была нечаянная и, можно сказать, скоропостижная; а, отъезжая из Оптиной, при прощании со старцем Петр Иванович оставил его с обычным здоровьем; потому и вообразить не мог чего-либо относительно его кончины. "7 сентября утром (день и час кончины старца Макария), — сказывал Петр Иванович,— когда мы на пароходе по Черному морю приближались к Одессе, я заснул легким сном. И вдруг представилось мне что-то вроде торжественной процессии: проходило мимо меня множество святителей, и все они были в полном монашеском одеянии. Но хотя они одеты были в мантии, однако чувство сердца говорило мне, что этот бесконечный ряд монахов, проходивших мимо меня чинно, тихо, безмолвно и вместе величественно, был ряд не простых монахов, но что все они были святые иерархи. Между ними увидел я и батюшку о. Макария, также в мантии, и с удивлением подумал: как это в сонме св. святителей явился о. Макарий? Видение это так врезалось в моей памяти, что я никак не мог забыть его, хотя и не понимал, как это и почему пустынный иеромонах явился в лике почивших св. иерархов". Сновидение это стало понятно Петру Ивановичу, когда он уже приближался к Оптиной Пустыни и находился от нее в 30-ти верстах. Тут он с глубокою сердечною скорбию услыхал о кончине многолюбимого им батюшки о. Макария и что она последовала в тот самый час, когда он в тонком сне на пароходе, еще не видавши берегов своего отечества, видел старца, куда-то мимо него проходившего в сонме почивших св. святителей…
Из книги «Жизнеописание Оптинского старца Макария». Агапит (Беловидов), схиархимандрит
Оцените: